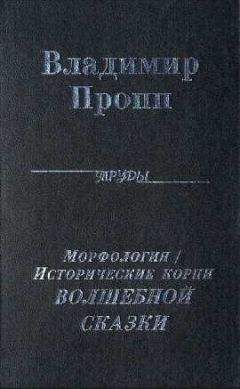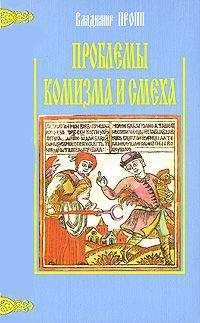Ольга Ивинская - «Свеча горела…» Годы с Борисом Пастернаком

Обзор книги Ольга Ивинская - «Свеча горела…» Годы с Борисом Пастернаком
Ольга Ивинская, Ирина Емельянова
«Свеча горела…»: Годы с Борисом Пастернаком
© О. В. Ивинская (наследники), 2016
© И. И. Емельянова, текст, фотографии, 2016
© ООО «Издательство «Этерна», оформление, 2016
* * *Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?
«А может, я лишь почва для романа?». Об авторе этих воспоминаний
В известной статье о Шопене, где Пастернак дает свое понимание реализма, он говорит о том, что «движущей силой художника, толкающей его на новаторство и оригинальность, является глубина биографического отпечатка. Всегда перед глазами души, – пишет он, – есть какая-то модель, к которой надо приблизиться, совершенствуясь и отбирая». Правда, для читателя едва ли важно, кто именно был этой моделью и чей «отпечаток» остался в книгах поэта. И «Марбург», и «Метель», и «Баллады» существуют и будут существовать без связи с далекими тенями их героинь. Однако по мере того как сама жизнь автора превращается в легенду, становятся мифами и они, его музы, и простое чувство благодарности заставляет нас вспомнить о них, расшифровать эти криптограммы, воздать должное его спутницам, прекрасным «эгериям» (то есть «вдохновительницам» по-гречески).
Каждый читатель рисует их себе, наверное, по-своему. Вот «Сестра моя – жизнь»… Для меня, например, героиня этой книги (Елена Александровна Виноград-Дороднова) дорога тем, что внесла в его поэзию дыхание города, открытого пространства, на которое он вырвался из узких улиц Марбурга, или «коробки с красным померанцем» в Лебяжьем переулке, пространства подставленной прямо небу земли, прежде всего – Москвы, с ее посадами, «куда ни одна нога не ступала»… Это их прогулки по ночной Москве, «Нескучный сад», «Воробьевы горы», московские вокзалы, Камышинская ветка… Как Атлантида, всплывает Город, когда наугад открываешь эту книгу.
Борис Пастернак с женой Евгенией Владимировной Лурье и сыном Женей, 1924. Фото И. Наппельбаум
Евгения Владимировна Лурье, художница, вошла в его жизнь и стихи на волне живописи; ее тонкие, изящные рисунки говорят о том строе души, который тоже стал для поэта на какое-то время моделью, к ней он «приближался», и для нас, далеких читателей, остались навечным подарком и «Художница пачкала красками траву», и «Существованья ткань сквозная», и «Стихи мои, бегом, бегом»…
Зинаида Николаевна Нейгауз, героиня «Второго рождения», ворвалась в его жизнь вместе с музыкой: ее музыкальное окружение, ее собственное музицирование, концерты Г. Нейгауза – были бурным, страстным, порой трагическим фоном их вспыхнувшей любви. Недаром их обручение состоялось в консерватории на похоронах Ф. Блуменфельда («Упрек не успел потускнеть… скончался большой музыкант, твой идол и родич»). И хотя потом эти страсти сменились торжеством Дома, Очага, Уюта, для нас, читателей, именно с З. Н. Нейгауз навеки связана и «Шопена траурная фраза», и «ослепляющая попытка», которой она «расправляла крылья», «касаясь до клавиш».
По вполне понятным причинам я лично никогда не знала Зинаиду Николаевну. Но в моем воображении она всегда представала такой Софьей Андреевной, которой, после прочтения ее дневников, я страстно сочувствовала, женщиной, принесшей и свой темперамент, и талант в жертву мужу, дому. Ведь и посещение больных баб в Ясной Поляне, и компрессы маленьким детям, и муравьиное переписывание текстов великого мужа чередовались с балладами Шопена, с Моцартом, с игрой с Левочкой в четыре руки. Она тоже была отличная музыкантша, как часто в ее дневнике встречаешь: «Чтобы успокоиться, играла сутра 3 часа…»
Борис Пастернак с женой Зинаидой Николаевной Нейгауз и сыном Леней. Переделкино, 1946
Как знаменательно и неслучайно то, что появление новой «эгерии» и, следовательно, новой книги сопровождалось крахом старого и рождением нового духовного опыта, обрушивающимся огромным пластом несбывшихся надежд, тем, что называется творческим и личным кризисом.
Надо ли говорить, каким обвалом было лето 1917 года, которым помечена «Сестра моя – жизнь», когда выход в пространство города сопровождался митингом площадей и деревьев, и «Книга степи» читается как Книга Бытия.
Или мучительный кризис 1930-х годов, когда чаемая новая жизнь обернулась идеологическим удушьем, пошлой и подлой грызней в РАППе, раскатами очевидно приближающегося террора. Кульминацией этого кризиса было для Пастернака самоубийство Маяковского, и последняя часть «Охранной грамоты» написана им уже о себе самом. «Значит, это не рождение? Значит, это смерть?» И в многочисленных письмах этого года – родителям, сестре, друзьям – он пишет о своей смерти, о конце, «либо полном физическом, либо частичном и естественном, либо же, наконец, невольно-условном» (письмо сестре Лидии 1930 года).
Но не исчерпан был еще световой ливень, дарованный ему природой, и новая попытка «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком», сформулированная в знаменитых «Стансах», на какое-то время удалась. Удалась благодаря З. Н. Нейгауз и той стихии жизни в ее повседневном, земном обаянии, которое она воплощала. Ожидаемая смерть обернулась «Вторым рождением», «Волнами», началом романа «Доктор Живаго», тем, что принято называть творческим подъемом.
Разумеется, этот подъем не мог быть продолжителен. Поразительно, что он вообще был. Когда погружаешься во все эти «дискуссии о формализме», стенограммы верноподданнических съездов и постановлений с их ужасающим маразмом, читаешь «осаживания» в прессе бывших друзей, – полное крови и жизни слово Пастернака кажется чудом. Ведь образовалось абсолютно бескислородное пространство, в котором, как ни страшно, только война явилась очистительным глотком свежего воздуха. Но война кончилась, и кончились появившиеся благодаря ей иллюзии. В записках 1956 года, сохранившихся в нашем архиве, есть такие слова: «Когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после щедрости исторической стихии повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов, я испытал во второй (после 36 года) раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз».
Его полная экстерриториальность в советском обществе, невозможность печататься и общаться с читателями, предчувствие наступающего опять террора – все это вело к новой смерти, к новому кризису, и нужна была вспышка нового чувства, тот самый «резкий и счастливый» (его слова) личный отпечаток, о необходимости которого говорил он в своей статье о Шопене. Таким отпечатком, вернее «нарезом по сердцу», явилась встреча с Ольгой Всеволодовной Ивинской в 1946 году в редакции «Нового мира». Мама часто рассказывала (а поскольку это была первая встреча, все немногие слова запомнились текстуально), каким был их первый разговор. Секретарь редакции, немолодая литературная дама, подвела к вошедшему в комнату (узнать о судьбе своего романа «Мальчики и девочки», будущего «Доктора Живаго») смущавшуюся молодую женщину и сказала: «Борис Леонидович, я хочу познакомить вас с одной из ваших горячих поклонниц!»
На что Б.Л. отозвался по-светски любезно, но и с несомненной горечью: «Как странно, что у меня еще остались поклонницы!»
Это не было пустым светским отшучиванием. Конец сороковых годов действительно становился духовным вакуумом. О каких поклонницах можно было говорить после ждановского постановления о Зощенко и Ахматовой? Начинался новый виток идеологических репрессий, и к Пастернаку было приковано внимание партийных верхов, от него требовалось покаяние. Ивинская стала для него не просто любовным увлечением, но и драгоценным читателем, благодарным откликом, человеком, для которого главным в жизни была поэзия. Это во многом черта ее поколения. Будучи моложе своих предшественниц, она не присутствовала при создании любимых текстов, она получила их уже в книгах, она ими бредила, писала в ответ свои, в школьной тетрадке: «Облака пастернаковской прозы / Как урок у меня на столе».
Ни живопись, ни музыка – той волной, что ее прибила к нему, были стихи. Живописи она не понимала, в музеи не ходила, музыка тоже не культивировалась у нас в доме. Помню, она рассказывала, как старалась разделить переживания Б.Л. на каком-то концерте в консерватории, но тщетно, он все понял и прислал ей записочку: «Не кажется ли Вам, что наше сидение здесь – нелепость?» И они ушли.
* * *Наш дом был полон стихами. Читали все – ее приятели-поэты, засиживающиеся за полночь за чаем, дед – школьный учитель, молившийся на Некрасова, мы с братом, маленькие, поставленные на стул, для гостей: «Печальный Демон, дух изгнанья…» Стихи были и комментарием к жизни, и содержанием ее. Тогдашняя жизнь, полунищая, порой путаная, всегда «на волоске», искала свой прообраз, почву, опору. «Виртуальная реальность», как сказали бы теперь, торжествовала.